Михаил Васильевич Нестеров:
живописец православной души
Часть 2
Керженки
 В
своё время на Нестерова очень сильное впечатление произвели романы
Мельникова-Печерского («В лесах, «На горах» и другие), посвящённые жизни
заволжских старообрядцев. С этими романами связан цикл картин, где центральными
являются женские образы. На картинах изображены керженские белицы –
воспитанницы скитов в традиционной русской одежде (не в «немецком платье»!): на
девушках широкие сарафаны, белые сорочки, большие узорчатые платки. В первой
картине «На горах» (1896) и последовавших за ней картинах «За Волгой», «Великий
постриг», «На Волге», «Думы», «Усталые», «Лето», «Одинокие», «Две сестры»
художник стремится раскрыть глубину души, передать чувства – радость, печаль,
тревогу, тоску. Среди произведений этого
цикла особо выделяется «Великий постриг» (1898). На полотне изображена юная девушка, идущая на постриг в сопровождении
монахинь из лесного старообрядческого скита. Эта картина – не апология женского
иночества и не изображение несчастной женской доли. Ведь иночество, как
правило, принимали добровольно. Здесь символически показана большая утрата –
земного счастья, или привычного миропорядка, или смысла мирской жизни – и, в
покорном приятии этой судьбы как трагической неизбежности, добровольный исход
из мира, полного горя и невзгод, в
«другое измерение» ближе к Всевышнему, с надеждой на то, что, там, рядом с Христом,
будет найдено избавление от сердечной муки. Это полотно не только передает
переживания художника о своем несбывшемся счастье; оно – и исторический экскурс, и пророчество. Полотно имело успех у публики,
за эту работу художник был удостоен звания академика живописи.
В
своё время на Нестерова очень сильное впечатление произвели романы
Мельникова-Печерского («В лесах, «На горах» и другие), посвящённые жизни
заволжских старообрядцев. С этими романами связан цикл картин, где центральными
являются женские образы. На картинах изображены керженские белицы –
воспитанницы скитов в традиционной русской одежде (не в «немецком платье»!): на
девушках широкие сарафаны, белые сорочки, большие узорчатые платки. В первой
картине «На горах» (1896) и последовавших за ней картинах «За Волгой», «Великий
постриг», «На Волге», «Думы», «Усталые», «Лето», «Одинокие», «Две сестры»
художник стремится раскрыть глубину души, передать чувства – радость, печаль,
тревогу, тоску. Среди произведений этого
цикла особо выделяется «Великий постриг» (1898). На полотне изображена юная девушка, идущая на постриг в сопровождении
монахинь из лесного старообрядческого скита. Эта картина – не апология женского
иночества и не изображение несчастной женской доли. Ведь иночество, как
правило, принимали добровольно. Здесь символически показана большая утрата –
земного счастья, или привычного миропорядка, или смысла мирской жизни – и, в
покорном приятии этой судьбы как трагической неизбежности, добровольный исход
из мира, полного горя и невзгод, в
«другое измерение» ближе к Всевышнему, с надеждой на то, что, там, рядом с Христом,
будет найдено избавление от сердечной муки. Это полотно не только передает
переживания художника о своем несбывшемся счастье; оно – и исторический экскурс, и пророчество. Полотно имело успех у публики,
за эту работу художник был удостоен звания академика живописи.
 Родина для Нестерова
– это не мир сияющих дворцов и разодетой на западный манер знати, а Святая Русь
с первозданной природой: то скромно-сдержанной, то сказочно-таинственной – на
фоне необъятных просторов и далей, таинственных лесов, водных гладей. Здесь ее святые, герои, странники, монахи,
обитатели скитов, купцы и крестьяне, стар и мал – это и есть тот самый народ,
который испокон веку живет, как завещали деды, и следует за Христом.
Родина для Нестерова
– это не мир сияющих дворцов и разодетой на западный манер знати, а Святая Русь
с первозданной природой: то скромно-сдержанной, то сказочно-таинственной – на
фоне необъятных просторов и далей, таинственных лесов, водных гладей. Здесь ее святые, герои, странники, монахи,
обитатели скитов, купцы и крестьяне, стар и мал – это и есть тот самый народ,
который испокон веку живет, как завещали деды, и следует за Христом.
«Святая Русь»
"...и я принялся за этюд. Он удался, а главное, я, смотря на этот
пейзаж,
им любуясь и работая свой этюд, проникся каким-то особым чувством
"подлинности", историчности его... Я уверовал так крепко в то, что
увидел,
что иного и не хотел уже искать..."
Михаил Нестеров
 <<<<< М. Нестеров. Молчание. 1903.
<<<<< М. Нестеров. Молчание. 1903.
В своих духовных поисках М.Нестеров посещал старинные
русские города, в том числе Углич, после чего появилась картина «Дмитрий
Царевич убиенный»(1899). Через несколько лет, замыслив большую картину «Святая
Русь», Нестеров решил отправиться на Север и в 1901 году предпринял поездку в
Соловецкий монастырь на Белом море. 5 июля 1901 года Нестеров писал из Соловков: «Тут много интересного, много своеобразного; но все
это я как бы видел когда-то во сне и передал в своих первых картинах и
некоторых эскизах. Тип монаха новый, но я его предугадал в своем «Пустыннике».
Под впечатлением увиденного в Соловках была написана одна из
лучших нестеровских картин «Молчание». В свете белой северной ночи отражается
темная, поросшая лесом гора Голгофа на острове Анзер, где позднее был
расположен лагерь узников НКВД. Изобразив двух монахов в лодках, седобородого
старца и юношу, застывших в неподвижности, словно вне времени, с почти буквально
повторяющимися силуэтами, художник
символически передает связь времен, преемственность, старой, Соловецкой, и современной Руси в единой судьбе русского народа как носителя «православной цивилизации» (по А.Панарину).
Вспоминая свою поездку в Соловецкий монастырь, Михаил
Васильевич говорил в 1940 году: «– За трапезой
архимандрит восседал на золоченом, красного бархата кресле барокко времен
императрицы Анны. А у меня на картинах нигде нет этих кресел. Не найдешь у меня
там ни архимандритов, ни архиереев. Мои монахи — простые. Самые простые. Из
простых простые». Действительно, монахи и скитницы изображены у
Нестерова или со старыми иконами, или лицом к лицу с природой, наедине с елочками да березами, да с «почти
верующими» (по Пришвину – ред.)
зверями.
Братия монастыря - крестьяне северных губерний и Сибири
поразили его умом, крепостью, деловитостью. «С топором да пилой в лесу Богу
молимся», - говорили они о себе. Вся природа была для них святым храмом –
именно такой ее изображал и М.Нестеров. Звери и птицы здесь не боялись
человека, поскольку он не трогал их без особой надобности. Раз в год
монастырский собор выносил решение изловить для нужд монастыря определенное
количество медведей, оленей, зайцев, лисиц. Все лишнее, что попадало в капканы
и силки сверх соборного постановления, выпускали на волю.

Вот что рассказывает Нестеров в своих воспоминаниях о
Соловках: «Ездили
мы и на Рапирную, и в Анзерский скит. На Рапирной, сопровождаемые монашком,
помню, вышли мы на луговину. На ней сидело два-три дряхлых-дряхлых старичка.
Они всматривались через деревья в далекий горизонт уходящего далеко-далеко
Белого моря. Слева была рощица. Наш проводник внезапно обратился ко мне со
словами: «Господин, смотрите, лиска-то, лиска-то!» Я, не поняв, что за «лиска»
и куда мне надо смотреть, переспросил монашка. Он пояснил, что смотреть надо
вон туда, налево, на опушку рощи, из которой выбежала лиса и так доверчиво,
близко подбежала к старичкам…» Тема Соловков еще долго звучит в его
творчестве в картинах «Тихая жизнь», «Обитель Соловецкая», «Мечтатели»,
«Соловки» и др. Только после революции больше трагической мистики в картинах на
соловецкую тему, и берег озера имеет красноватый оттенок, словно обагрен кровью
убиенных соловецких узников.
* * * * * * *
 Весной
1902 г. художник решился выставить на публичное обозрение «вчерне» законченную
картину «Святая Русь». Содержание
полотна точно передаёт второй вариант названия: «Приидите ко Мне все труждающиеся и обременённые
и Аз успокою вы». На ней изображён Христос в окружении особо чтимых
на Руси угодников, словно сошедших со старых икон: Николая Чудотворца, Сергия
Радонежского и Георгия Победоносца. Вся «святая группа» будто вышла из скита,
что спрятался в лесу позади них. К
Христу пришли русские люди – представители разных времен и разных сословий, каждый
со своей бедой, с покаянными словами. Полотно насколько лирично, настолько и
символично: единство и спасение народа
русского – в его исконной православной вере, завещанной предками.
Весной
1902 г. художник решился выставить на публичное обозрение «вчерне» законченную
картину «Святая Русь». Содержание
полотна точно передаёт второй вариант названия: «Приидите ко Мне все труждающиеся и обременённые
и Аз успокою вы». На ней изображён Христос в окружении особо чтимых
на Руси угодников, словно сошедших со старых икон: Николая Чудотворца, Сергия
Радонежского и Георгия Победоносца. Вся «святая группа» будто вышла из скита,
что спрятался в лесу позади них. К
Христу пришли русские люди – представители разных времен и разных сословий, каждый
со своей бедой, с покаянными словами. Полотно насколько лирично, настолько и
символично: единство и спасение народа
русского – в его исконной православной вере, завещанной предками.
Словно в одном мистическом действе Святая Русь переносится
во времена раннего христианства, и Христос является людям не в убранной
раззолоченной церкви, а среди снегов, лесов и полей – сама русская земля здесь храм. На художника снова обрушились
критики, которые увидели в картине недоверие к официальному православию и
неканоническую «картинность» в изображении Христа и святых. Картину объявили
неудачей. Нестерова упрекали в том, что Христос на картине слишком похож на
простого человека. Л.Толстой сравнил Христа с «итальянским тенором», а картину
назвал «панихидой русского православия».
Тема картины передает тревогу художника в связи с развитием
определенных политических тенденций в России: Святой Руси, как и три века назад, угрожают пришедшие с Запада идеи и
силы, несущие безверие и распад. В картине впервые звучит мотив покаяния. В
1905 году Нестеров вступил в Союз русского народа.
«Душа народа»
Теме пути к Богу – главной
у Нестерова - посвящена одна из его последних
важнейших предреволюционных работ – картина «Душа народа», законченная в 1916 году (первоначальные названия:
«Христиане», «На Руси»). В этой работе
воплотились раздумья художника о судьбе родины и русского народа. Вот как
охарактеризовал он идею этой картины: «Ее перипетии со
времен стародавних до наших дней. Тут и юродивый, и раскол, и патриарх с Царем
— Народ и наша интеллигенция с Хомяковым, Вл. Соловьевым, Достоевским и Л.
Толстым, и слепой воин с сестрой милосердия. Все это на фоне русского волжского
пейзажа движется, как бы Крестным ходом, туда, к Высокому Идеалу, к Богу <…>
У каждого свои «пути» к Богу, своё понимание его, свой «подход» к нему, но все
идут к тому же самому, одни только спеша, другие мешкая, одни впереди, другие
позади, одни радостно, не сомневаясь, другие серьёзные, умствуя…».
Нестеров изобразил на полотне разноликую людскую толпу,
которая медленно направляется к некоему
невидимому месту на берегу Волги. Это – собирательный образ русского народа. Здесь представители всех сословий общества от
древних времён до современности. В центре – потемневший от времени Спас в руках
двух длиннобородых мужчин в черных длиннополых старообрядческих одеждах. Слева
от иконы – «православный государь», похожий на Ивана Грозного, в допетровском
облачении. Справа в черном монашеском одеянии – мать художника, какой она была
перед смертью. О чем-то страшном пророчествует юродивый, предрекая «последние
дни» и «приход зверя». Словно все, кто жил и живет на Руси, соединились вокруг
древней святыни в торжественно-напряженном, полном эпической значимости
всенародном шествии.
 Далеко
впереди этой разнообразной толпы ступает с туеском в руке крестьянский мальчик
лет двенадцати, написанный Нестеровым с сына Алёши. Именно его образ отсылает к
евангельским словам: «Если не будете как дети, не войдёте в Царство Небесное»
(Мф.18:3).
Далеко
впереди этой разнообразной толпы ступает с туеском в руке крестьянский мальчик
лет двенадцати, написанный Нестеровым с сына Алёши. Именно его образ отсылает к
евангельским словам: «Если не будете как дети, не войдёте в Царство Небесное»
(Мф.18:3).
Композиционно картина построена так, что край шествия не
виден, поток людей как бы нисходит вниз по холму с высокого берега – или с
горних высот? Души
всех русских людей, нынешних и ушедших, слились в единую духовную сущность, православную
«душу народа», - объединились во Христе, отринув разногласия, словно возвратившись во
времена единой древней церкви – тела Христова, которое есть Иисус Христос
вместе со всеми христианами, живыми и умершими. Едино-православная «душа
народа» с любовью и тревогой провожает юношу в новую жизнь, направляет его к
Богу, отстраненно и неотмирно думая тягостную думу о судьбе родины. С чем идет
в жизнь новое поколение, эта последняя ипостась Святой Руси? Что ждет русских сынов Божьих впереди? «Душа народа» тревожится, верит и
надеется.
Как гениальный провидец Нестеров утверждал этой своей
картиной мысль об искупительном страдании как национальном своеобразии русского
народа. «Процесс христианства на Руси длительный,
болезненный, сложный. Слова Евангелия — «пока не будете как дети, не войдете в
царствие небесное» — делают усилия верующих особенно трудными, полными великих
подвигов, заблуждений и откровений…» — писал Нестеров.
Апокалипсис
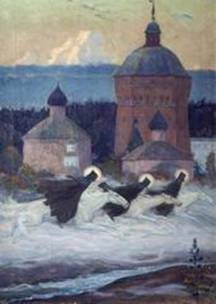
<<<<< Всадники. 1932 г.
Тоскливая неизвестность, гнетущие предчувствия художника
оправдались в 1917 году. В письмах Нестерова того времени слышится неприкрытое
отчаяние: «Пережитое
за время войны, революции и последние недели так сложно, громадно болезненно,
что ни словом, ни пером я не в силах всего передать. Вся жизнь, думы, чувства,
надежды, мечты как бы зачеркнуты, попраны, осквернены. Не стало великой,
дорогой нам, родной и понятной России. Она подменена в несколько месяцев. От ее
умного, даровитого, гордого народа — осталось что-то фантастическое,
варварское, грязное и низкое... Все провалилось в тартарары. Не стало Пушкиных,
нет больше Достоевских и Толстых — одна черная дыра, и из нее валят смрадные
испарения «товарищей» — солдат, рабочих и всяческих душегубов и грабителей…», — записывает Нестеров свои ощущения, полные ужаса, и его слова словно передают трагедию трехсотлетней
давности.
Теперь он языком символов рисует образы распятой, униженной
России. Он не изменил себе и продолжал писать на прежние темы. По старым мотивам
в 1920-е годы создаются новые картины с особым, присущим только им настроением.
Именно тогда художник начинает работать над «Пророком», «Распятием», «Страстной
седмицей», повторяет «Несение креста», «Голгофу», «Димитрия царевича
убиенного». В самих названиях картин отразилось трагическое мироощущение
художника, с болью воспринимавшего все происходящее вокруг. Отказаться совсем
от творчества он не мог: «Работа, одна работа имеет
еще силу отвлекать меня от свершившегося исторического преступления. От гибели
России. Работа дает веру, что через
Крестный путь и свою Голгофу Родина наша должна прийти к своему великому
воскресению», — писал в первые дни Октябрьской революции Нестеров. Около
двадцати картин, созданных в советский период, в большинстве своем рассеяны по
частным и закрытым церковным собраниям или запасника государственных художественных музеев, и до сих пор
остаются неизвестными широкому зрителю.

<<<<< Несение креста. 1924 г.
Надежду на воскресение России художник, как и прежде, видел
в религиозном возрождении русского народа. Воодушевленный зрелищем Крестного
хода 1918 года в Москве, собравшего в отличие от первомайской демонстрации
многотысячные толпы народа, Нестеров писал: «Вера в
них (большевиков — ред.) если не
пропала, то сильно упала. Что, несомненно, то это то, что в народном, массовом
сознании произошел под различными условиями и, главным образом, голодом —
крутой надлом. Веры в могущество обещаний и посул — нет больше. Народ начинает
приходить в сознание. «Очарование» проходит. Действительность ведет его путями верными их старой веры в могущество
Божие, в Его великие принципы и Заветы». Идеалы, которыми было
исполнено его дореволюционное творчество, остались неизменными. Только в
изображении Иисуса и других святых Нестеров еще больше отходит от канонической
традиции. Его изображения Христа и
святых – это символы страдающего русского народа.
* * * * * * *
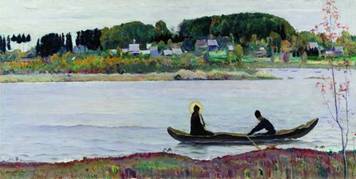
<<<<< Тихие воды. 1922
 К
другим символам, распространенным в творчестве художника этого периода, относится
водное пространство, будь то река, залив и особенно лесное озеро. Создающая
иллюзорный мир водная гладь в произведениях мастера 1920-х годов превращается в
то самое Светлое озеро, которое в минуту
смертельной опасности скрыло, сделав невидимым, прекрасный Град Китеж. На его
берегах мы видим задумчивых девушек-старообрядок, старцев, монахов и святых.
К
другим символам, распространенным в творчестве художника этого периода, относится
водное пространство, будь то река, залив и особенно лесное озеро. Создающая
иллюзорный мир водная гладь в произведениях мастера 1920-х годов превращается в
то самое Светлое озеро, которое в минуту
смертельной опасности скрыло, сделав невидимым, прекрасный Град Китеж. На его
берегах мы видим задумчивых девушек-старообрядок, старцев, монахов и святых.
<<<<< Осенний пейзаж. 1934
Наперекор происходящему вокруг и после революции Нестеров
продолжал творить в картинах свою Святую Русь, свой потаенный Китеж, веря в
грядущее воскресение Родины, которая спасется искренней верой и душевным
подвигом лучших своих людей.
Покаяние
Тяжело переживая трагические послереволюционные события в
России, соизмеримые с расколом в 17 столетии, Нестеров сказал: «Все мы вольные или невольные пособники
этой гибели великой Родины». В его картинах доминантной становится тема
покаяния. Эта тема звучит в картине «Отцы-пустынники и жены непорочны» (1933 г.) - как и в стихотворении А.С.Пушкина, написанном
почти перед гибелью, в 1936 году. На картине изображены повторяющие силуэты
тонких березок образы странников и белиц, бесплотные, словно призраки, вышедшие
из таинственного озера. Фигуры в туманном полумраке движутся по берегу около
«голубца» - старообрядческого могильного креста. Белицы в безмолвной молитве несут
зажженные свечи. О ком они молятся? Обо всех убиенных и замученных, о
погубленной России… На берегу лежат красные осенние листочки, словно следы
крови… На картине тоже изображен народ – тот народ, которого больше нет,
которого укрыло Озеро… Все условно, эфемерно, ирреально в этой абсолютной
неземной гармонии людей и природы. Святая Русь уже не принадлежит этому миру.

Отцы пустынники и жены непорочны,
Чтоб сердцем возлетать во области
заочны,
Чтоб укреплять его средь дольних
бурь и битв,
Сложили множество божественных
молитв;
Но ни одна из них меня не умиляет,
Как та, которую священник повторяет
Во дни печальные Великого поста;
Всех чаще мне она приходит на уста
И падшего крепит неведомою силой:
Владыко дней моих! дух праздности
унылой,
Любоначалия, змеи сокрытой сей,
И празднословия не дай душе моей.
Но дай мне зреть мои, о боже,
прегрешенья,
Да брат мой от меня не примет
осужденья,
И дух смирения, терпения, любви
И целомудрия мне в сердце оживи.
А.С.Пушкин. 1836 г
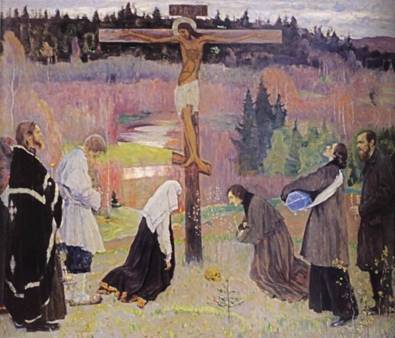 В
символической картине «Страстная Седмица» на фоне сказочно-ирреального пейзажа
около Распятия изображены всего семь человек: две девушки «христовы невесты» в
старообрядческом платье, священник, крестьянин, молодая горожанка с детским гробиком, Н.В.Гоголь
и Ф.М.Достоевский. Эти семь образов наиболее значимы для выражения
нестеровского замысла, они собирательно-символичны – отсюда и название картины.
Каждый из изображенных является представителем своего особого мира, выразителем
своей собственной жизненной философии, но все
изображенные объединены одной истовой верой в Христа, ибо они пришли молить Его о прощении и милости, каждый о своем
горе, о своем грехе, и все вместе – о страдающем русском народе.
В
символической картине «Страстная Седмица» на фоне сказочно-ирреального пейзажа
около Распятия изображены всего семь человек: две девушки «христовы невесты» в
старообрядческом платье, священник, крестьянин, молодая горожанка с детским гробиком, Н.В.Гоголь
и Ф.М.Достоевский. Эти семь образов наиболее значимы для выражения
нестеровского замысла, они собирательно-символичны – отсюда и название картины.
Каждый из изображенных является представителем своего особого мира, выразителем
своей собственной жизненной философии, но все
изображенные объединены одной истовой верой в Христа, ибо они пришли молить Его о прощении и милости, каждый о своем
горе, о своем грехе, и все вместе – о страдающем русском народе.
* * * * * * *
В советское время Нестеров ценился прежде всего как
«создатель портрета эпохи». Его портреты отличаются глубоким психологизмом. К
лучшим его работам относятся портрет дочери (1906), портрет Е. Нестеровой,
портрет скульптора В. Мухиной, хирурга С. Юдина, философа И.Ильина, архитектора
И.Щусева, художников Кориных, академика И. Павлова и др. Знаменательно, что
Нестеров никогда не принимал заказы на портреты, так же, как и отказывался от
заказной работы в храмах. За работы в
области портретной живописи в 1941 году он стал лауреатом Сталинской премии первой степени, а в 1942 году был
удостоен звания заслуженного деятеля искусств РСФСР. Следует сказать, что сталинская премия в
области культуры являлись знаком признания высокого культурного вклада лауреата,
и, по свидетельству очевидцев, И.В.Сталин уделял пристальное внимание отбору и
утверждению кандидатов на премию своего имени, зачастую фактически единолично
решая вопрос о ее присуждении.
* * * * * * *
Изображая народ Святой Руси, Нестеров всегда был полон веры
в его силы. С годами эта вера укреплялась. В самые страшные времена Нестеров не
терял этой веры. В конце жизни он обращался к молодежи с призывом любить
родину, природу и человека «как мать родную».
Осенью 1941 года, когда немецкие войска подошли к Москве, он
спокойно заявлял, что «немцу все равно в Москве не бывать». Чтобы донести свою
веру до многих людей, в тяжелые
октябрьские дни он написал короткую статью под названием «Москва». Статья была
опубликована в газете «Советское искусство», передавалась по радио. Враг рвался
к столице, а живописец Святой Руси писал:
«...Москва и до сего дня осталась символом «победы и
одоления» над врагом. Явились новые герои, им счета нет: ведь воюет вся земля в
собирательном слове «Москва». Она и только она, зримая или незримая, приготовит
могилу врагу. Дух Москвы есть дух всего нашего народа. Этого не надо забывать
никому, ни явному, ни тайному врагам нашим.
...Впереди грезятся мне события, и они будут светозарными,
победными. Да будет так!»

